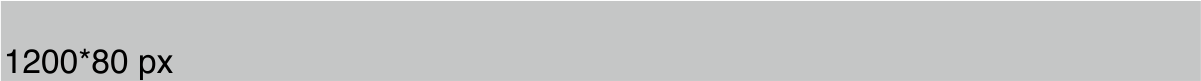Исторически сложившаяся отрасль хозяйственной деятельности на территории северных районов Амурской области – оленеводческая.
Разведением, содержанием и сохранением поголовья домашних северных оленей в регионе на территории трех муниципальных образований: Зейского и Тындинского округов, а также Селемджинского района – традиционно занимаются коренные малочисленные народы Севера – амурские эвенки.
Территория эвенков
В Зейском муниципальном округе хозяйствуют две эвенкийские общины. Это родовая оленеводческо-промысловая община «Юктэ» («Родник») и община КМНС семейная (родовая) «Тайга».
– В январе текущего года поголовье северных оленей в общинах КМНС составляло 956 голов, – рассказывает начальник управления экономической деятельностью администрации Зейского МО Виктория Василевская. – Община «Юктэ» ведет оленеводческую деятельность на территории национального парка «Токинско-Становой», расположенного в северной части нашего округа, а община «Тайга» – на границе Якутии и Амурской области (Становой хребет).
Основной целью для эвенкийских оленеводов округа на сегодняшний день является сохранение поголовья оленей, поскольку процесс его наращивания по ряду объективных причин (деградация пастбищ, нападения хищников, дефицит кадров и т. д.) сдерживается.
– Кроме того, у нас отсутствуют комплексы по убою и первичной переработке мяса оленя, так же как и объекты глубокой переработки, – отмечает Виктория Викторовна. – Поэтому оленеводческие общины не занимаются реализацией мяса, а производят убой оленей только для собственных нужд.
Местом проживания зейских эвенков является село Бомнак. Всего в нем зарегистрировано 232 представителя КМНС.
В Тындинском муниципальном округе эвенкийское население (831 человек) сосредоточено в трех селах: Первомайском (195 человек), Усть-Уркиме (215 человек) и Усть-Нюкже (421 человек).
Всего здесь зарегистрировано 14 семейных (родовых) общин. Оленеводов и охотников, ведущих кочевой образ жизни, около 126 человек. Как правило, они являются родственниками.
– Все оленепоголовье находится в собственности родовых общин, – говорит начальник отдела экономики и инвестиций Тындинского МО Елена Скаржинец. – Согласно отчетам, поголовье в 2024 году составляло 3762 головы.
Заготовкой мяса и производством готовой мясной продукции родовые общины Тындинского МО так же, как и Зейского, не занимаются.

Сложная, но необходимая отрасль
Оленеводство – отрасль особенная. Ее специфика начинается с самого объекта хозяйственной деятельности – северного оленя.
– Олени – не КРС, – подчеркивает председатель родовой оленеводческо-промысловой общины «Юктэ» Зейского МО Елена Колесова. – Необходимое условие их жизни – вольное содержание со свободным выпасом в тайге. В этих условиях сохранять поголовье тяжело.
Елена Григорьевна знает, о чем говорит. Она в отрасли практически с рождения: родители были оленеводами. Потом вышла замуж за оленевода и до сих пор не расстается со своими оленями.
– Для этих животных нужны обширные пастбища. При этом кочевой образ жизни, а порою люди вместе с оленями проходят до 300 километров, – это основа для оленеводства и необходимое условие. Ведь весенние, летние, осенние и зимние пастбища значительно отличаются друг от друга по составу растительности.
Зимние пастбища обязательно должны быть самыми лучшими, с ягелем хорошего качества. Именно он, обладая высокой питательной ценностью, составляет базовую часть рациона северного оленя.
Весной и летом олени с удовольствием поедают траву.
– Если сравнивать с человеческим рационом, то для оленей ягель – как хлеб для людей. А травы – это чай-сахар-масло, – улыбается опытный оленевод. – Все микроэлементы и витамины олени получают из зеленой массы. Трава быстро восстанавливается, чего не скажешь о таком нежном растении, как ягель.
Для ведения деятельности оленеводам нужны внушительные территории, однако, по словам Елены Колесовой, после того как были ликвидированы оленеводческие совхозы, сохранить угодья эвенкам не удалось.
– К нашей общине они вернулись в 2022 году. Но хозяйствовать на этих землях сложно: лесная промышленность и строительство железной дороги сделали свое дело, – поясняет Елена Григорьевна. – Поэтому амурским эвенкам приходится гонять оленей в Якутию через Становой хребет. Мы в свое время тоже приняли такое решение и в пути потеряли огромное количество молодняка.
Потом «Юктэ» приняло предложение директора ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник» Сергея Игнатенко о вхождении общины в состав национального парка «Токинско-Становой».

– Раньше в этих местах выпасались совхозные олени. Я хорошо знаю данные пастбища: работала в совхозе зоотехником, – продолжает Елена Колесова. – И могу утверждать, что сейчас климат здесь поменялся, поскольку при строительстве железной дороги «Улак-Эльга» часть сопок была взорвана. И это создает определенные сложности. Прежде всего, теперь на территории нацпарка господствуют ветра, что в свою очередь способствует быстрому уплотнению выпавшего снега – олени с трудом добираются до ягеля. Однако на сегодняшний день более пригодных территорий для выпаса нашего стада нет. Плюс все непросто и с сохранностью оленей: из Хабаровского края и Якутии пришли медведи.
А это значит, что весной с началом отела появляются новые задачи: оленеводы организуют круглосуточное дежурство по охране стада. Но медведи – очень умные и хитрые. Выйдя из спячки, они весной и летом живут возле стада.
– К концу осени остается всего несколько голов приплода. Сегодня у нас чуть более 300 голов. И если б не зверье, то экологически чистой олениной можно было бы свой район обеспечивать.
Что нужно сделать для этого? У Елены Колесовой свой взгляд на вопрос. Председатель общины считает: если органы власти помогут на апрель-май привлечь охотников, которые специализируются на отстреле хищников, то можно было бы думать об увеличении поголовья.
По признанию Елены Григорьевны, оленеводство – это не просто отрасль. Это образ жизни эвенков.
– И хотя в ней так же, как и везде в животноводстве, не хватает кадров, мы обязаны ее сохранить. Ведь оленеводство, прежде всего, – это быт, культура и язык. Кстати, в процессе работы на русском говоришь редко, поскольку многое, например, названия той же упряжи, просто не переводимо.

Домашний северный олень даст фору дикому собрату
Средняя численность поголовья северных оленей в РО «Эвэды – Октон» из Усть-Уркимы Тындинского МО – 200 голов.
– У нас 8 оленеводов, и для такого количества человек это мало, – признается председатель общины Эдуард Жуманиязов. – На сегодняшний день мы даже для собственных нужд стараемся не забивать оленей. Только в случае крайней необходимости или выбраковки. Целью для нас является наращивание стада, а это долгий процесс.
Во-первых, как говорит Эдуард Кадамбаевич, в стадах оленеводов всегда велики потери. Основные – из-за хищников. Бывают также вследствие отравлений на пастбищах.
Во-вторых, содержание стада на промышленном уровне предполагает использование научного подхода к его воспроизводству.
– У нас на Дальнем Востоке практически нет племенного оленеводства. И хотя приобретение племенных особей субсидируется государством, их просто негде купить. Последний раз наша община закупала племенных оленей в Южной Якутии в 2010 году. Сейчас Амурской области предлагают оформить заявку предварительно на 2027-2028 гг. На 2025 год в поставках животных отказано, поскольку численность поголовья в племенном репродукторе из Республики Саха (Якутия) ограничена и рассчитана только на собственный регион.
Поэтому сегодня на уровне Правительства Амурской области прорабатывается вопрос о приобретении за пределами региона товарных оленей в целях исключения близкородственного спаривания и повышения породных и продуктивных качеств животных.
– Для нас главное – избежать в стаде рождения слабого потомства, – подчеркивает Эдуард Кадамбаевич.
Кстати, маловыносливое потомство может рождаться и в случае спаривания маток домашнего северного оленя с дикими быками. Сегодня это явление очень редкое. Оленеводы тщательно отслеживают, чтобы такого не происходило. Представители дикой фауны отстреливаются.
– В противном случае это ни к чему хорошему не приведет. Такие олени не адаптированы к условиям, в которых живут домашние. Дикий олень слабый сам по себе. Он только бегает быстро, а вот когда становится под нарты или груз, ему тяжело, он не имеет нужной выносливости. Естественно, такого оленя выбраковывают. Мы ведем очень кропотливый отбор, – делится особенностями племенной работы в стаде Эдуард Кадамбаевич и продолжает, улыбаясь. – Да и домашние быки достаточно надежно охраняют стадо и чужаков в него стараются не допускать.
Есть и еще один фактор, препятствующий «общению» диких оленей с домашними. Хотя в тундре их миграционные потоки (каждый!) могут насчитывать до 10 тысяч голов, через железнодорожные ветки БАМа в угодья, где выпасаются домашние олени, «дикари» попадают редко.
Что касается кормовой базы для оленей, то она не всегда стабильна, а порою зависит от климатических условий конкретного года. Например, в прошлом году в условиях засухи почти все лето не было грибов, которые наряду с ягелем охотно поедаются оленями.
– На грибах животные хорошо набирают вес. Но они у нас в прошлом году пошли только осенью. Все лето пришлось жить на траве. Ягель на зимних пастбищах тоже ограничен: мы десятилетиями пасем своих 200 голов на одних и тех же территориях. Ягель вытаптывается, съедается, а восстанавливается мох в десять лет по одному сантиметру. Значит, чтобы он вырос до 4 см, и его снова можно было есть, нужно 40 лет!
Вместе с тем тындинские оленеводы даже не думают о том, чтобы расстаться с традиционным видом деятельности. Ведь для многих из них олени олицетворяют не просто жизненный уклад, пришедший из глубины веков, а смысл существования народа.

Семья потомственных оленеводов
В настоящий момент стадо семейной (родовой) общины КМНС «Улуки» из Тындинского округа находится на высоте 1200 метров на вершине, расположенной на реке Имангра.
– Это в районе гольцов между реками Хани и Олекма, – уточняет председатель родовой общины Светлана Кульбертинова. – Там у нас весеннее пастбище. Сейчас наши олени едят ягель. Потом к лету поднимемся еще выше: на высоту 1500 метров. На такой высоте нет насекомых, которые досаждают оленям. Растительность – трава и небольшая доля кустарниковых пород.
Численность голов в стаде – более ста. Учитывая, что наступает время отела, скоро стадо увеличится на 30-40 голов. К сожалению, сохранность составляет от 9 до 12 голов: когда стадо спускается с вершины в зимнее стойбище, приходят волки. Весной оленеводы стараются постоянно кочевать, избегая медвежьих троп.
– Медведи у нас редко нападают. За весну и лето недосчитываемся 1-2 телят, молодняк до зимы сохраняется практически весь, – рассказывает Светлана Андреевна. – Зато волки создают большие проблемы: они более жестоки и убивают не ради пропитания, а удовлетворяя охотничий инстинкт. Могут за один раз вырезать до 10 голов и даже не притронуться к тушам. Если такое происходит, мы сразу стараемся свернуть стойбище и кочуем в другое место.
Светлана Кульбертинова – оленевод потомственный. В детстве на каникулах постоянно ездила в тайгу с бабушкой и дедушкой, перенимала у них мастерство обращения с оленями, навыки работы со шкурами и т. д.
Когда пришло время взять ответственность за стадо на себя, Светлана Андреевна, долго не думала, тем более что у супруга тоже от родителей остались олени.
– Теперь работаем самостоятельно. Супруг мой в селе жить совсем не может, из тайги приезжает на Новый год и День оленевода, где участвует в гонках на оленьих упряжках. Дети у нас до 5 класса с нами в тайге были. Правда, самый младший недавно родился, поэтому пока в тайгу не ездили.
На вопрос о том, почему все-таки молодая женщина решила связать свою жизнь с тяжелой работой, где приходится круглосуточно трудиться, Светлана Кульбертинова отвечает:
– Стараюсь, чтобы оставить оленей нашим детям и внукам. Как без них эвенкам? Это равносильно исчезновению нашего народа. Я вот умею все, что необходимо оленеводу для работы. И на охоту сходить, и шкуру выделать. Одно только не попробовала – самостоятельно нарты смастерить. Вот сейчас дети подрастут – уеду в лес, поживу там подольше – и я это сделаю, – заканчивает разговор Светлана Кульбертинова.